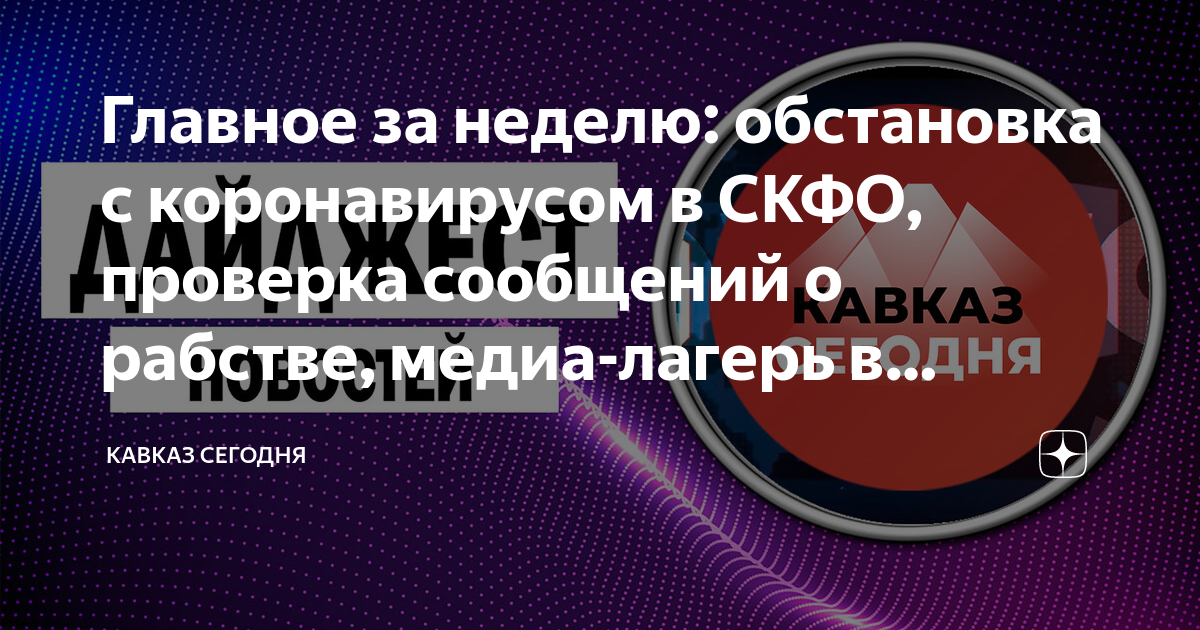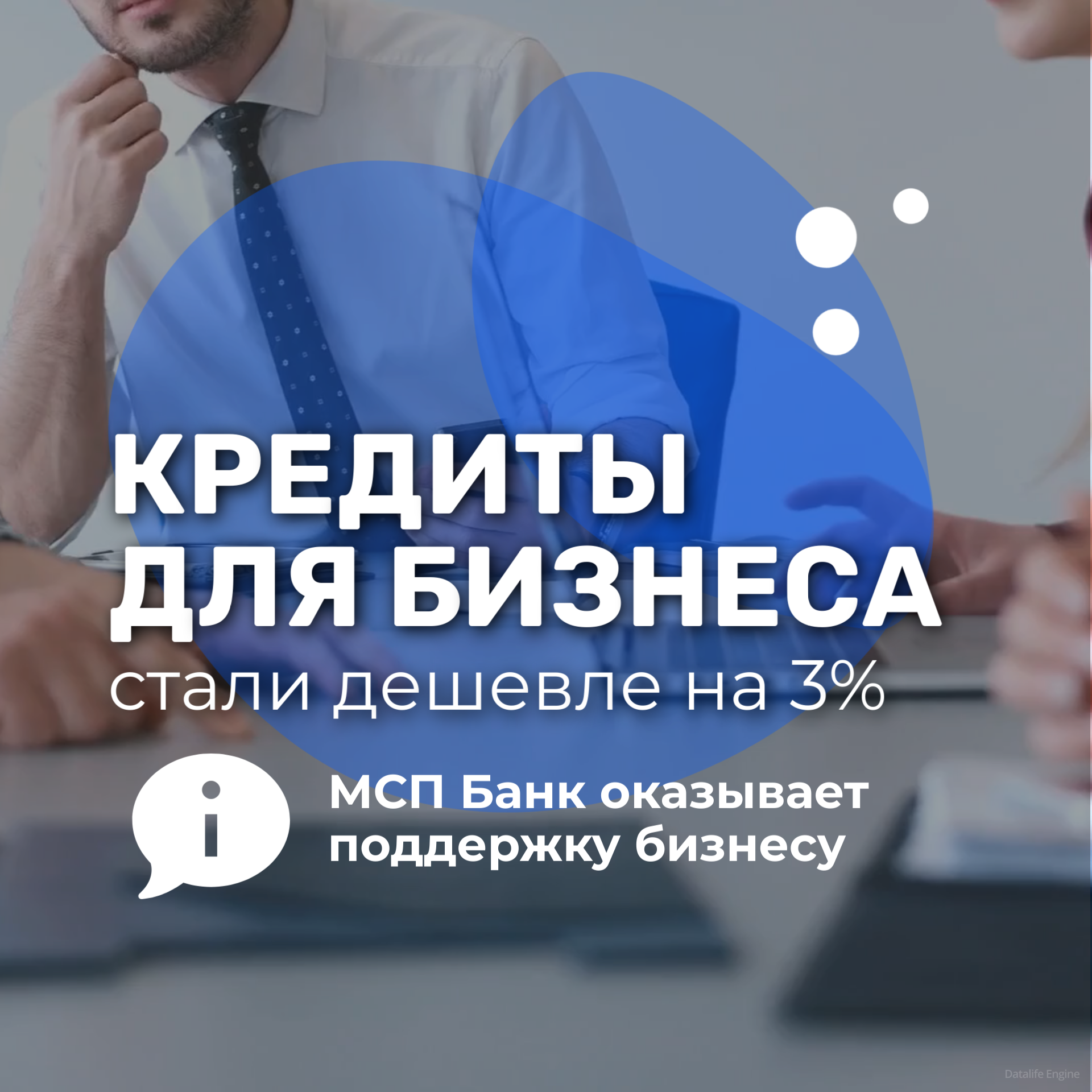Характер и проблемы российского подданства горских народов к моменту назначения главнокомандующим..
Б.В. Виноградов, П.В. Манаков.
Генерал П. Д. Цицианов был назначен главнокомандующим в Грузии (фактически – на Кавказе) в 1802 г., в то время, когда для российской стороны перспективы проводимой в регионе политики изменились в связи с фактором присоединения к империи Картли-Кахетинского царства (1801 г.), что ознаменовало начало выхода российских владений на Южный Кавказ (в Закавказье). Если прежде укрепления и коммуникации Кавказской Линии обозначали собой границу российского непосредственного военно-административного контроля в регионе, при условии формально подданнического состояния горских народов Центрального и Северо-Восточного Кавказа, проживавших южнее Линии, то теперь стратегические долговременные интересы России претерпевают значительное изменение. Северный Кавказ начинает становиться тыловой территорией империи, причем той зоной этнополитической нестабильности и конфликтности, реалии которой весьма трудно вписывались в контекст внешнеполитических задач государства.
К началу XIX в. Россия уже прочно была сильнейшей стороной в той борьбе за Кавказ с Османской империей и Ираном, которая берет отсчет с середины XVI в. Важнейшими вехами в данном усилении позиций России в регионе были Кючук-Кайнарджийский трактат 1774 г., обусловивший российский суверенитет над Кабардой, «нейтрализацию» Крымского ханства и наличие широких возможностей для российской политики применительно к народам Центрального и Северо-Восточного Кавказа и, собственно, последовавшее в 1783 г. присоединение к России Крымского ханства. Последнее предопределило более чем значительные перспективы политики России на Северном Кавказе и в Северо-Восточном Причерноморье, и, вместе с заключенным в том же 1783 г. Георгиевским трактатом о протекторате над Восточной Грузией (Картли-Кахетинским царством), и сделало Российскую империю сильнейшей стороной в противоборстве за Кавказ.
Однако явное усиление России на Кавказе таило в себе те «подводные течения», которые, как представляется, оказались немалой неожиданностью для российских же властей. С одной стороны, северокавказские этносоциальные сообщества начинают воспринимать Россию в качестве сильнейшей стороны в противоборстве с Турцией и Ираном, что, на первый взгляд, определяло их пророссийскую ориентацию и обусловливало принятие многими из них подданнических присяг. Вместе с тем, с другой стороны, ослабление позиций Османской империи и Ирана (который за XVIII в. был неоднократно сотрясаем затяжной борьбой за шахский престол), снятие усилиями российской политики с «повестки дня» ранее существовавшей крымской угрозы обусловили на перспективу долговременный фактор снижения мотивированности части горских народов в российской защите, покровительстве со стороны России.
В данном контексте важно понимать, что феодально-абсолютистская Россия и горские народы, стоявшие на до- или полугосударственном уровне развития, по-разному воспринимали суть и конкретное содержание тех подданнических присяг, которые определяли взаимодействие сторон в тех условиях, когда сколь-нибудь конкретного российского военно-административного и правового присутствия южнее Кавказской линии, за редкими исключениями, практически не существовало. Для российской стороны, исходя уже из традиционной риторики, содержавшейся в манифестах императоров, важнейшим целеполаганием кавказской политики являлось водворение «мира и спокойствия», что в конкретных региональных социокультурных условиях предполагало отказ горцев от набеговых «предприятий», освященных традицией, а с конца XVIII в. – и фактором завершения процесса исламизации.
Говоря о подданнических присягах, принимаемых горцами в адрес России, следует заметить, что встречаемый в документах российского происхождения термин «подданство» применительно к мере и характеру подчиненности горских сообществ Российской империи в XVIII в. (как, впрочем, и в двух предшествующих столетиях) не может отразить всей специфичности российско-горского взаимодействия. В российском государстве к тому времени давно и прочно утвердился достаточно жесткий «вертикальный» подданнический стандарт, отражавший реалии бытия социально стратифицированного централизованного государства, превратившегося в начале XVIII в. в феодально-абсолютистскую монархию. Есть достаточные основания считать, что данный стандарт не распространялся на моделирование характера и содержания взаимоотношений с северокавказскими народами, исходя и из особенностей внешнеполитического контекста складывания этих взаимоотношений, и из несомненной разницы в уровне социокультурного развития субъектов взаимодействия.
В настоящее время довольно проблематично выработать и апробировать тот понятийно-терминологический аппарат, который бы в полной мере отражал все нюансы российско-горских взаимоотношений, в том числе – по части оценки смыслового наполнения подданнических присяг горцев, принимаемых ими в различных обстоятельствах как внешнеполитического, так и внутрирегионального свойства. Применяемые определения, такие как «вассально-союзнические отношения», «вассально-подданнические отношения», «договорное подданство», «военно-политические союзы», не могут отразить все качественное своеобразие российско-горского взаимодействия в широком хронологическом диапазоне. К тому же, практически каждый из них содержит те терминологические условности, которые проистекают либо из «европейского происхождения» понятий, либо из проблематики «стадиальной» сопоставимости субъектов взаимодействия, либо из практически неизбежной в исторической науке известной субъективности исследователей при трактовке тех или иных понятийно-терминологических определений, да и характера российско-северокавказских взаимоотношений.
Как бы то ни было, несмотря на многочисленные и нуждающиеся в дальнейшей разработке примеры позитивного опыта в российско-горском взаимодействии, принимаемые горскими сообществами в адрес России подданнические присяги нередко нарушались. При анализе данного феномена в российско-северокавказских взаимоотношениях следует исходить из положения, что горцы, вследствие характера их традиционных социокультурных реалий, были не в состоянии отказаться от набеговой практики, то есть не могли соответствовать российскому видению сценария взаимодействия сторон, то есть были такими, какими они были. Вместе с тем, и от российской стороны было бы не исторично требовать каких-либо иных стандартов проведения региональной политики, привнося современное понимание к разрешению тех или иных этнополитических проблем. Данная констатация, как представляется, может предохранить от искушения поиска правых и виноватых в оценке причин и проявлений тех конфликтных ситуаций, которые имели место в российско-горском взаимодействии в конце XVIII – первой половине XIX в.
Как известно, среди народов Центрального Кавказа наиболее социально-стратифицированными и сильными в военном отношении были кабардинцы. Несмотря на некоторую двойственность соответствующих положений Кючук-Кайнарджийского мирного договора с Османской империей, считается, что с 1774 г. Кабарда находилась в российском подданстве, и существовавший почти два столетия «кабардинский вопрос» был снят с повестки дня международных отношений. Однако события взаимодействия региональных российских властей с кабардинскими социальными верхами в последние десятилетия XVIII в. покажут, что кабардинская знать в условиях ослабления османской угрозы и ликвидации российскими стараниями угрозы крымской будет весьма своеобразно воспринимать свое российское подданство, довольно стабильно пытаясь торпедировать усиление позиций России на Центральном Кавказе. Это выразится, в частности, в сопротивлении возведению укреплений Азово-Моздокской линии, принявшем в конце 1770-х гг. вооруженную форму, а затем – характер затяжной «фронды». Здесь следует заметить, что несколько ранее, еще в период «нейтральности» Кабарды по условиям Белградского трактата 1739 г., кабардинская знать стала устойчиво возражать возведению в 1763 г. российской крепости Моздок, считая ее расположенной на своих землях, вопреки конкретным историческим и политическим реалиям региона. В современной кавказоведческой историографии есть точка зрения, что высшая российская власть в лице Екатерины II на определенном этапе стремилась посредством поддержки кабардинской знати, а затем и фактора российского суверенитета над Кабардой, распространить и укрепить свое влияние на остальные народы Центрального Кавказа. Однако события конца XVIII в. продемонстрируют, что кабардинские социальные верхи окажутся непригодными для осуществления данных российских планов. В условиях кардинального ослабления внешних вызовов Кабарде, а значит, и необходимости в российской военно-политической поддержке, кабардинские князья станут устойчиво сопротивляться закреплению России в зонах обозначившегося их собственного доминирования. Нахождение Кабарды в российском подданстве фактически окажется «за кадром» их внимания и практического восприятия. Подданнические присяги в адрес России со стороны ингушей и осетин, поддерживаемое российскими властями их стремление к расселению на плоскость вызывали долговременное и энергичное неприятие со стороны кабардинских социальных верхов.
Еще раз отмечая значительную специфичность российского «подданства» горских народов, обитавших южнее Кавказской Линии, все же следует заметить и то, что Россия стремилась стать единственным сюзереном для своих новых горских подданных. Средневековый принцип «вассал моего вассала – не мой вассал» (распространенный, заметим, не по всей Западной Европе периода феодальной раздробленности) не устраивал российские власти, зато вполне соответствовал интересам кабардинской знати в условиях децентрализации кабардинского общества. Подобная «двуполярность» политического влияния на Центральном Кавказе не могла на перспективу устроить российские власти, тем более – в контексте того, что Турция и Иран еще не отказались от своих притязаний на северокавказские народы.
Анализ сущности набеговой традиции и ее историографических оценок присутствует в некоторых изысканиях последних лет.
Как бы то ни было, фактор набеговой традиции, независимой собственно от фактора российского присутствия в регионе, обусловливал невыполнение подданнических присяг и соответствующие реакции на это со стороны российских военных властей.
Особенностью этнополитической ситуации на Северном Кавказе в конце XVIII в. было то, что усиление России в регионе в связи с присоединением в 1783 г. Крыма и Правобережья Кубани обусловило и некоторые изменения в этнической карте региона. Так, овладение Россией Прикубаньем привело к переселению оттуда кубанских ногайцев, которые не без оснований казались российским властям недостаточно политически надежным контингентом для проживания на вновь обретенной империей территории. Последовавшее же впоследствии вселение туда Черноморского и групп Донского казачества, с одной стороны, обусловило начало собственно освоения Россией данной территории, но с другой, – определило изменение традиционной этнической карты региона, существовавшей ранее системы «этнополитических противовесов».
Данную проблематику необходимо анализировать в контексте тех миграционных процессов, которые происходили в регионе в середине – второй половине XVIII в., при условии, что некоторые из них являлись составной частью российско-горского взаимодействия. Так, чеченцы и карабулаки (орстхоевцы) во второй половине XVIII в. стали расселяться на плоскостные территории терско-сунженского междуречья в значительной степени благодаря принимаемым в адрес России подданническим присягам в условиях смещения на запад территории Малой Кабарды.
Таким образом, российские владения терского левобережья вступили в непосредственное соприкосновение с зоной нового расселения чеченцев и карабулаков.
Следуя оценкам доминировавшей в начале – середине 1980-х гг. концепции о добровольном вхождении чеченцев и ингушей в состав России, к 1781 г. большинство чеченских предгорно-плоскостных обществ приняли присяги на российское подданство.
Вместе с тем, следует отметить, что выход чеченцев на равнину и фактор их российского подданства незначительно изменили традиционный уклад их жизни, частью которого была и набеговая традиция. В данном контексте следует отметить, что подданнические присяги, принимаемые чеченцами, не предполагали введения среди них российских военно-административных порядков, не строились тогда на землях этнической Чечни и российские укрепления. Зато предусматривались прекращение набегов новых подданных на российские поселения и коммуникации по Тереку (что видится вполне логичным), выдача аманатов. Кроме того, плоскостные чеченцы должны были не пропускать через свои земли набежчиков из горной Чечни.
В данном случае проступала проблематика, характерная для широкого спектра вопросов российско-горского взаимодействия. Догосударственный и в значительной степени дофеодальный уклад жизни тех же чеченцев, отсутствие опыта подчинения государственной власти предопределяли значительную меру их «недоговороспособности». В большей или меньшей степени подобная констатация относилась и к иным горским субъектам взаимодействия с российскими властями.
Отсутствие существовавших мер по пресечению набегов привело бы, представляется, к значительному росту их количества. В данном смысле интересно высказывание английского историка П. Камерона, что «умеренность и великодушие восточный человек ошибочно принимает за трусость и бессилие, если прежде не дали возможность убедиться в обратном».
В связи со значительным усилением России на Кавказе после 1783 г. укрепляются позиции России в Дагестане, что находило отражение в просьбах ряда местных владетелей о вступлении в российское подданство. Однако само положение Дагестана предопределяло оспаривание влияния в нем всех «сторон», соперничавших за Кавказ: России, Турции и Ирана. В данной связи дагестанские владетели находились в довольно сложном положении, что нередко приводило к двойственной или даже тройственной их политической ориентации. Стоит заметить и то, что и в Дагестане, и в других областях Северо-Восточного и Центрального Кавказа политическая ориентация местных элит и этнических сообществ в целом во многом зависела от складывавшихся региональных обстоятельств, насыщенных междоусобицами, взаимными набегами и т.п. В этих условиях покровительство России одной из сторон местного противоборства нередко означало поиск другой стороной иных внешнеполитических заступников.
Оформившийся в 1783 г. протекторат России над Картли-Кахетинским царством обозначил надолго для России необходимость его защиты от разорительных набегов со стороны дагестанских владетелей и «вольных обществ», принявших для Грузии характер настоящего бедствия. Все это не устраивало Россию, которая, «приняв под покровительство свое Грузию и обращая виды свои на Армению, старалась увеличить число зависимцев своих в Дагестане».
С одной стороны, для недопущения набегов на Восточную Грузию о принятии ее в российское «подданство» (реально – под «протекцию») уведомлялись владетели Дагестана и Азербайджана, но с другой, – российские власти в реалиях весьма декларативного характера подданства тех же дагестанских владетелей практически не имели рычагов силового воздействия на них и, в условиях противоборства в регионе с Турцией и Ираном, были вынуждены мириться с нападениями последних на Карли-Кахетинское царство, когда весьма ограниченный запас дипломатических средств оказывался исчерпанным. Подобная ситуация определится довольно надолго и «перекочует» в то время, когда Россия уже будет осуществлять мероприятия по собственно включению в свой состав Восточной Грузии при императоре Павле I, что будет немало осложнять местную обстановку и даже требовать в новых обстоятельствах российского военного вмешательства.
Комплекс приведенных факторов и обстоятельств позволяет утверждать, что ко времени назначения главнокомандующим на Кавказе ген. П. Д. Цицианова этнополитические реалии региона были весьма непростыми. Факторы «нейтрализации» Крымского ханства в 1774 г. и собственно присоединения к России в 1783 г. Крыма и Правобережья Кубани предопределили не только долговременное усиление России на Кавказе, но и ряд специфических проблем российско-горского взаимодействия в изменившихся внешнеполитических и внутрирегиональных обстоятельствах. Принимаемые рядом горских этносоциальных сообществ в конце XVIII в. присяги на российское подданство отражали существовавшую сложную и многофакторную динамику этнополитической обстановки на Северном Кавказе. Российские власти и горцы, в силу значительной разницы в социокультурном развитии, по-разному воспринимали суть и «смысловое наполнение» этих присяг. В контексте присутствия в традиционном укладе горцев набеговой практики и ослабления для них внешнеполитических угроз это обусловливало долговременные проблемы в российско-горском взаимодействии и требовало принятия российской стороной мер, отличных от предыдущего опыта региональной политики.
Источник: Журнал. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). Тамбов: Грамота, 2017. № 11. С. 29-33