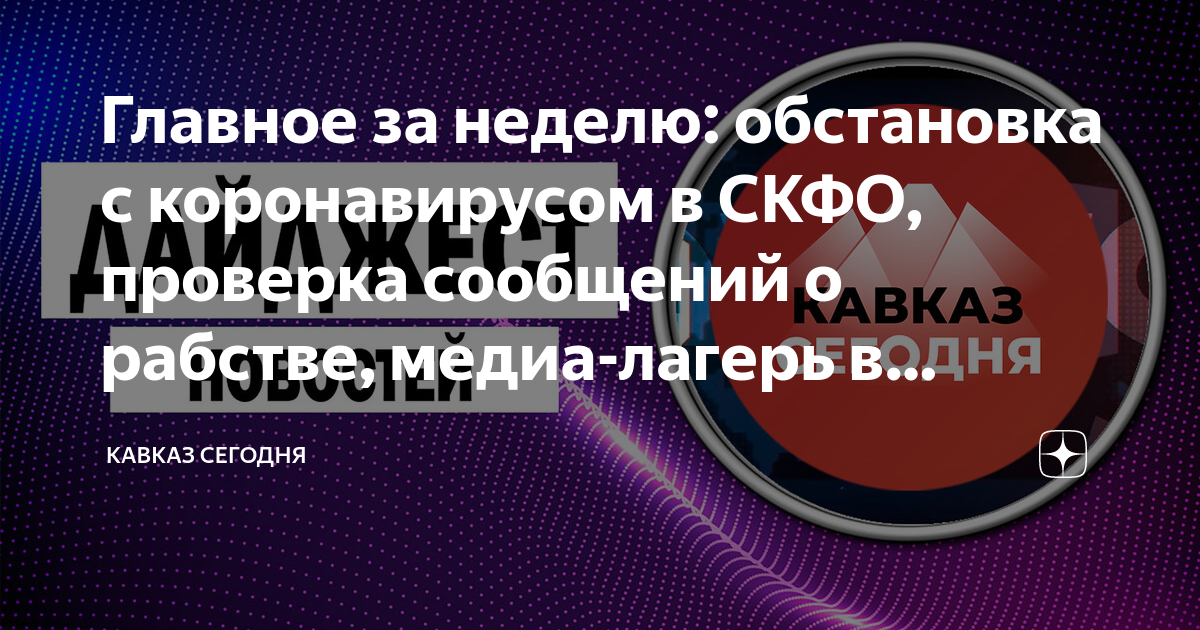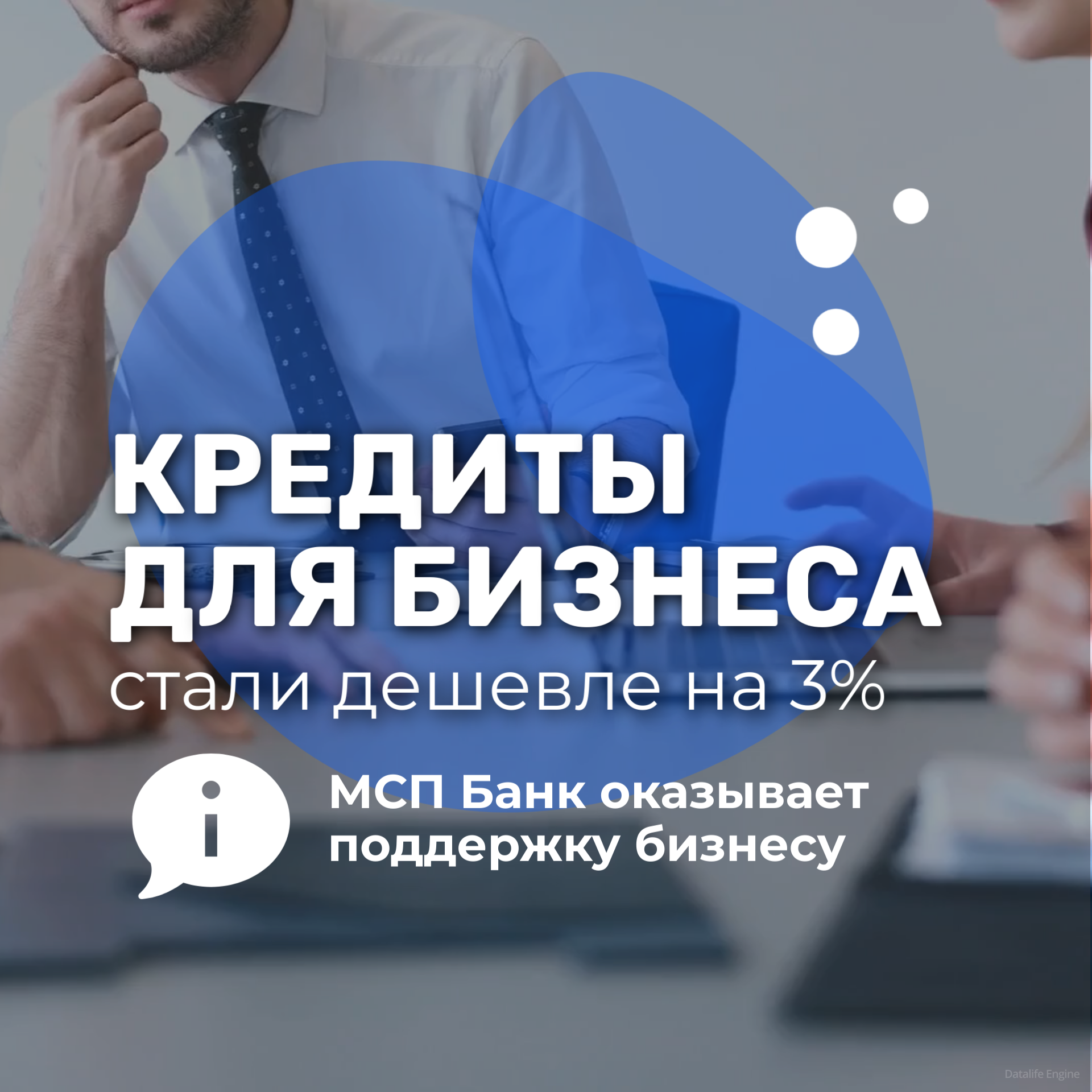Проблемы интегрирования горцев Центрального и Северо-Восточного Кавказа в государственно-правовое..
Х.С. Вартанян
В течение XVIII в. происходил сложный и неоднозначный процесс интегрирования горских сообществ Центрального и Северо-Восточного Кавказа в российское государственно-правовое поле. Он был обусловлен и одновременно нередко затрудняем комплексом внешнеполитических и региональных факторов и обстоятельств, определявших и возможности российской стороны, и позицию горских народов. Условия первой половины XVIII в. (за исключением временного нахождения в 1722-1735 гг. под российским контролем каспийских провинций Восточного Кавказа) объективно не способствовали выработке российскими региональными властями конкретных «интегративных проектов», в силу специфических условий российско-турецкого Белградского трактата 1739 г.
Интеграционные возможности и сопутствующие им проблемы большей частью открылись для России, начиная с царствования Екатерины II, особенно после победы над Османской империей в войне 1768-1774 гг. и ликвидации Крымского ханства в 1783 г., в результате чего Россия становилась сильнейшей стороной во внешнеполитическом противоборстве за Кавказ. Свои по-прежнему нуждающиеся в анализе подходы к достижению стабильности в регионе и к российско-горской интеграции имел император Павел I (1796-1801 гг.).
Видение Павлом I перспектив и методов интегрирования горцев в российскую государственную систему содержалось в следующем «программном» рескрипте И. В. Гудовичу от 9 марта 1797 г. Здесь показателен 4-й пункт рескрипта, запрещающий назначение военных к горским народам, состоявшим в российском подданстве, «для подобных употреблений» предписывалось требовать «надобных людей из коллегии иностранных дел».
В этом же рескрипте допускалась возможность сохранения у «азиатских народов», зависимых от России, «своих судов» при наличии Верхнего пограничного суда в Моздоке во главе с И. В. Гудовичем. С одной стороны, можно согласиться с точкой зрения, что Павел I не стремился к расширению кабардинского опыта, будучи осведомленным о сопротивлении нововведению. Однако, с другой, – получалось, что полномочия и мера ответственности Моздокского пограничного суда расширялись за счет необходимости взаимодействия со «своими судами», правовая основа которых была отличной от российских представлений о законности.
Относительно назначения приставами не военных, а чиновников из Коллегии иностранных дел, оценка может быть двоякой. С одной стороны, таким образом признавался «внешний» характер российского подданства горских сообществ Центрального и Северо-Восточного Кавказа, что во многом соответствовало существовавшей специфике российско-горского взаимодействия. С другой стороны, в отличие от приставов-военных, служивших до соответствующего назначения на Кавказе и знавших местные социокультурные особенности, «надобные люди» из Коллегии иностранных дел таким опытом не обладали и региональную специфику не знали.
Косвенно подобное распоряжение императора может свидетельствовать о приоритетности для него невоенных методов стабилизации местной обстановки. И здесь нелишне вспомнить, что «репрессалии» горцам за совершенные в российские пределы набеги, как правило, разрешались личной санкцией самого Павла I, это объективно не могло способствовать многочисленности первых, при утрате, правда, возможностей «оперативного реагирования» на горские грабительские «предприятия», нарушавшие подданнические присяги.
Согласно рескрипту, И. В. Гудович составил примерный штат Верхнего пограничного суда «для исправления дел Азиатских народов, живущих и кочующих в пределах российской империи». В Моздокском Верхнем суде допускалось разбирательство дел местных народов согласно их законам, но «с наклонением к здешним (то есть российским. – Х. В.), дабы нечувствительно обратить со временем их было можно в россиян и тем умножить число и силы здешних подданных». Составу суда предписывалось «главнейшую зависимость иметь от Государственной Коллегии Иностранных дел, оставляя чрез то Азии… надежду на… заступление».
Также члены суда теперь обязаны были «сноситься» с Астраханским военным губернатором, в чьем подчинении должны были находиться назначаемые приставы.
И в самом рескрипте от 9 марта 1797 г., и в действиях И. В. Гудовича по его исполнению вновь просматривается поиск российской стороной приемлемой модели взаимодействия с местными народами, в данном случае – в правовой плоскости. Реальные последствия приведенной модели судебных разбирательств и назначения приставов довольно неоднозначны и дискуссионны. Однако они могут свидетельствовать о допущении в феодально-абсолютистской Российской империи, в целом – достаточно «вертикальной» властной структуре, элементов «правового плюрализма» (примем здесь в расчет множественность трактовок данного понятия), причем в таком хронически неспокойном регионе, как Северный Кавказ. Конечно, подобные модели, замышляемые, разрабатываемые, не становившиеся надолго действительно эффективными механизмами в российско-горском взаимодействии тем не менее никак не могут свидетельствовать в пользу точки зрения о насаждении Россией собственных административно-судебных и военных порядков и о сопротивлении всему этому горцев, как считают еще многие кавказоведы «национальных» северокавказских субъектов современной Российской Федерации.
Что же касается «курса» Павла I на взаимодействие с народами и владетелями региона через Коллегию иностранных дел, то соответствующее предписание имело конкретное воплощение. В пограничные советники определялся от Коллегии надворный советник Архип Иванов, коллежский советник К. С. Макаров назначался приставом к трухменцам и другим около Кизляра кочующим народам. Приставом в Большой и Малой Кабарде рекомендовался коллежский асессор Стремиковский.
Документы Архива внешней политики Российской империи, относящиеся к 1799-1800 гг. и представленные в сборнике «Русско-дагестанские отношения в XVIII – начале XIX в.», свидетельствуют, что в Коллегии происходило рассмотрение и решение вопросов российско-дагестанских взаимоотношений, причем не только дипломатического, но и иного конкретного свойства. Показательно, что летом 1800 г. К. Ф. Кнорринг получал предписания от Коллегии, отправлял в нее донесения относительно контактов с тарковским шамхалом Мехти. В частности, Коллегия предписывала ему сообщить монаршее одобрение действий шамхала по приведению в послушание подвластных ему народов, шамхал же, в свою очередь, представлял в Коллегию свой «присяжной лист».
Можно предположить, что, кроме прочего, посредством этого с императора снималась часть «нагрузки» по рассмотрению и решению кавказских проблем. Хотя здесь можно заметить, что в течение долгого времени не все императорские рескрипты, указы и т.п. являлись «собственноручными».
Любопытно, что В. Кудашев связывал деятельность К. С. Макарова и «управленческие перипетии», с ним связанные, не ранее чем с 1802 г., то есть уже с временем царствования Александра I. Вместе с тем коллежский советник К. С. Макаров был «определен» к должности и получил соответствующее наставление 30 сентября 1800 г. Из наставления Коллегии следовала известная его зависимость от военных властей, в плане действий «с согласия тамошнего военного губернатора» «доносить ему для принятия нужных мер» к пресечению набегов. В этом же пункте наставления К. С. Макарову предписывалось горцев «удерживать от таковых гнусных поступков и приводить в повиновение», и только если «представления будут недействительны», сообщаться с военными властями на предмет акций, направленных против набегов. Такая постановка задачи была, на наш взгляд, довольно трудной для исполнения К. С. Макаровым. Ведь факты горских набегов на «российские жилища» были уже «застарелой проблемой» в горско-российских взаимоотношениях, и ее не удавалось разрешить и тем военным властям, которые имели «арсенал средств» силового воздействия на горцев в ответ на их набеги, отнюдь не всегда, заметим, имевшего долговременный позитивный результат. Приводить же «в повиновение» воинственных горцев «гражданскому» чиновнику было еще сложней.
Перспективы достижения такой цели можно рассматривать и анализировать в контексте того, что К. С. Макарову предписывалось «обращением… и правдивыми поступками с теми владельцами, старшинами и подвластными им людьми, стараясь вникнуть в права и обычаи каждого народа и приноравливаясь к оным сколько можно снискивать всякую от них доверенность и любовь и по возможности удаляться от причин, повод к ненависти и остуде подающих, что… внушать и всем подчиненным… следовательно никаких обид никому не чинить, взяток не брать и других к тому не допускать, под опасением суда и законного взыскания». Реализовать эту часть предписания было очень непросто. Если по части недопущения злоупотреблений постановка вопроса представляется понятной (равно как и то, что, судя по контексту, случаи их имели место), то постижение «прав и обычаев каждого народа» и «приноравливание» к ним видится делом как чрезвычайной важности, так и не меньшей сложности и долговременности. Российским властям, в данном случае – «гражданскому управленцу» К. С. Макарову, не имевшему к тому же предыдущего «кавказского опыта», было очень проблематично понять и апробировать ту меру, в которой можно было приспосабливаться к правам и обычаям горцев без ущерба государственным интересам России в регионе. Тем более что явную уступчивость горцы могли воспринять в качестве слабости, и авторитета это бы не добавило.
Все эти проблемы упираются еще и в степень изученности в то время Северного Кавказа как российской академической гуманитарной наукой, так и представителями местной интеллигенции. Можно согласиться с тем, что «изучение Северного Кавказа явилось определенным шагом по органичному включению его в культурное поле России… в пределах которого… идут процессы интеграции и культурного взаимообогащения».
Изучение Северного Кавказа происходило в рамках трех направлений, которые можно обозначить как «правительственное», «ученое» (научное) и «общественное». Преобладающую роль играло правительственное направление, что обуславливалось официальной политикой вовлечения Северного Кавказа в российскую имперскую систему, вследствие чего приоритеты научных исследований определялись, прежде всего, государственными интересами.
Здесь нам представляется, что «правительственное направление» было не в состоянии сосредоточиться на исследовании и анализе «прав и обычаев» горских народов, тем более что к концу XVIII в. отечественное кавказоведение, в принципе, делало свои первые шаги.
Между тем тому же К. С. Макарову, как и любому представителю российской региональной администрации (как военной, так теперь и гражданской), было весьма трудно постигать местную социокультурную специфику лишь путем накопления личного опыта; вопрос же о предварительно имевшихся у него соответствующих знаний и их характере остается, на наш взгляд, открытым.
В обязанности К. С. Макарова, следуя предписанию, входило и информировать Коллегию иностранных дел о стремлении местных «орд и народов» отправить «посланцев или депутатов» к императорскому двору и ожидать высочайших предписаний.
Таким образом, введение элементов гражданского управления народами Северного Кавказа, причем в том числе – «внешними» подданными России (что, в сущности, и означало наставление К. С. Макарову) объективно было сопряжено с немалыми сложностями. Можно согласиться, что региональная обстановка предполагала широкие прерогативы военных властей, которые традиционно и пытались преодолевать кризисные ситуации в меру собственного понимания местных реалий. Вряд ли не сталкивались с неведомыми ранее для себя проблемами и приставы от Коллегии, назначаемые к горским народам. Дело в том, что горские этносоциальные сообщества были, в силу уровня своего развития, воинственными, и, будучи сторонниками «маскулинных» ценностей, привыкли, как правило, силой разрешать возникавшие противоречия как меж собой, так и с российской стороной. Соглашения между горскими народами, принимаемые для урегулирования конфликтов, были легко расторжимыми по условию, так как действовали до исчерпания своей целесообразности. В условиях до- или полугосударственной ступени своего развития, зачастую – преобладания «дофеодальных» мировоззренческих ценностей, горцы, естественно, не обладали собственным опытом гражданского управления, как и «государственного подчинения». Данный контекст не мог способствовать большой эффективности внедрения среди них элементов российского гражданского управления. Кроме того, довольно сложной была система взаимодействия и «соотношений» российских военных и гражданских властей в регионе.
Источник: Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 12(86): в 5-ти ч. Ч. 2. C. 54-56.